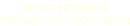Анатолий Ким. ЖЕЛТЫЕ ХОЛМЫ КАЗАХСТАНА

Мой дед Ким Ги-Ен происходил из рода крупного военного чина, начальника королевской стражи, который в ХV веке после дворцового переворота вынужден был бежать и скрыться в глухой провинции на севере Кореи. Там и проросла наша тоненькая фамильная ветвь, которая впоследствии проникла в Россию, где я и увидел свет. Корни же моего старинного рода находятся в провинции Каннынг и уходят на большую историческую глубину, зачинаясь со времен образования государства Сипла.
Появлению моего деда в России предшествовала миграция корейцев, начавшаяся в шестидесятых годах прошлого века. Уходили с севера Кореи безземельные крестьяне, переселяясь на малолюдную тогда окраину Российской империи в поисках свободного жизненного пространства.
Дед перебрался в Россию примерно в 1908 году, когда уже тысячи корейских семей поселились на землях российского Дальнего Востока и Приамурья.
Российские власти, заинтересованные в быстрейшей колонизации Дальнего Востока, вначале охотно давали русское гражданство корейским эмигрантам и наделяли их земельными участками. Но впоследствии, когда поток корейских переселенцев значительно увеличился, а из самой России на Дальний Восток было переселено достаточно русских крестьян, благоволение властей к корейским эмигрантам прекратилось.
Мой дед отправился в Россию один, оставив в Корее семью. Он был крестьянином, хотел иметь свою землю. Но на родине земли у него не было, а на чужбине ее не досталось - к тому времени, когда мой дед пришел в Россию, землю новоприбывшим корейцам выделять перестали. Дед нанялся работником к какому -то зажиточному земляку по фамилии Ко.
Вышло так, что этот Ко вскоре умер, оставив после себя жену и сына, а мой дед, живший в их доме, постепенно стал за хозяина и вскоре женился на вдове. От второго брака у него родилось трое сыновей, одному из них и суждено было впоследствии стать моим отцом.
Сочетаясь новым браком, дед полагал, видимо, что станет владельцем той земли, которая принадлежала умершему хозяину. Но фамильный клан Ко решил по своему: усадьба и вся земля были переданы подросшему сыну покойного. Деду же достались не очень-то покладистая жена, прежняя бедность да горькое чувство вины.
Так зачиналась, с глубинной боли вины, русская жизнь нашей корейской ветви. Мечта деда, его всесильная крестьянская страсть -своя земля лишь в какую-то неверную минуту причудилась ему. Он умер от тоски и безысходности в 1918 году.
Тогда пришел из Кореи его младший брат, пробравшись через запертую японцами границу. Он отыскал старшего брата и потребовал от него, чтобы тот вернулся в Корею, где много лет ждет, пребывая в большой нужде, его первая семья. Но этого дед не мог сделать, с маленькими детьми совершить опасный путь через границу было невозможно. Бросить троих сыновей и вторую жену он тоже не мог. У деда никакого выхода не было, как только умереть. И он однажды, вернувшись с поля, лег в своем углу, отвернувшись к стене, и больше не встал. Похоронен он был на чужбине, где -то на берегу реки Амур у села Благословенное.
Там и родился мой отец, Андрей Ким, был крещен в русской православной вере и наречен христианским именем. Но несмотря на это, отец никогда не был по вере и по характеру русским человеком. Он всегда оставался корейцем - во всей полноте своей натуры.
До пятнадцати лет, когда отец был направлен учиться в рабфак, он прожил с дядей. Тот после смерти своего старшего брата, остался в России, считая своим долгом вырастить и воспитать трех племянников. У самого же дядьки в Корее остались его семья и дети, с которыми он больше никогда не встретился в этой жизни. Когда племянники выросли и разлетелись, кто куда, дядька решил пробираться на родину через Маньчжурию. На маньчжурской границе он и сгинул, никто больше о нем ничего не слыхал.
В 1937 году, когда настал самый кровавый год сталинских репрессий, корейцев принудительно выселили с Дальнего Востока. Крестьян, служащих, студентов, рыбаков, детей и взрослых, актеров театра, охотников за пантами и искателей горного женьшеня всех корейцев погрузили в товарные вагоны и эшелонным конвоем отправили в западном направлении...
Моя бабушка с материнской стороны, при крещении нареченная Анной, не раз вспоминала впоследствии, грустными глазами уставясь куда - то в пространство и деловито загибая пальцы на руке:
"Нам пришлось все бросить: новый дом, двух лошадей и дойную корову, весь урожай риса, соленые кимчи, закопанные в глиняных бочарах в землю... Полный сундук, набитый кусками полотна. И всю посуду: медные тазы, глубокие и мелкие чаши, блюда, много ложек и палочек для еды - и все это из жаркой меди, вычищенной до блеска... Вся посуда осталась целехонькой лежать на полках".
Итак, корейцев непонятно за что переселили с Дальнего Востока на пески и в болота Казахстана, Узбекистана, в другие районы Средней Азии. Их лишили дома, имущества, привычных родных мест - и глубокой осенью тридцать седьмого года ссадили с товарных вагонов в камышовые болота у озера Балхаш, на угрюмые пески Кызыл-Кумов, в малярийные долины Узбекистана.
Это насильственное переселение прямо обвиняло: виноват! Но в чем? Так до сих пор и не выяснено, в чем обвинялось корейское население Дальнего Востока. И около трехсот тысяч человек корейцев отправилось отбывать бессрочную ссылку, затаив в себе чувство неясной вины.
Вот так я и родился с комплексом вины в своей крови 15 июня 1939 года в Казахстане, в южной его части, у гор с названием Тюлькубас, в поселке русских переселенцев Сергиевке. Я помню голубой свет небес, мелькнувший за окном. Помню маму, срезающую на огороде большим ножом зеленые перья лука... Дует ветер, темные деревья сильно раскачиваются, стекло на окне, плохо примазанное к раме, стучит: тыр-та! тыр-та! тыр-та!.. Это Сергиевка. Мой отец получил там работу после окончания педагогического института. Мне, значит, два года отроду.
Будет преувеличением говорить, что человек способен в самом раннем возрасте постичь тягость и печаль существования. Нет, ничего подобного и я тогда еще не мог осознавать, а тягостное ощущение жизни рождалось потому, что началу моей жизни - с двух лет и до шести - сопутствовало военное лихолетье. И чувство голода, может быть, являлось тогда моим главным ощущением бытия... В том случае, если ты просыпаешься и, еще лежа в постели, хочешь есть, а потом весь день также хочешь есть, а еды почему-то не дают -разве не похоже это на некую фатальную виноватость? Ты вроде бы виноват уже только тем, что появился на этом свете и хочешь есть.
К этому времени наша семья переселилась в другой край просторного Казахстана, к горам Талды-Курган. Перед моими глазами засветились под неистовым солнцем блекло-желтые холмы с округлыми вершинами, совершенно безлесыми, лысыми.
Вот на эти холмы я как бы и сошел с облаков и зашагал по бренной земле,- и до сих пор иду, не представляя себе ясно, куда должен придти под конец.
Итак, степь и желтые холмы Казахстана стали первой картиной моей души. Будучи в этом мире художником, я мыслю цветом, линией и художественными образами. Мир нашей души - это музей Божественного искусства. Каждый из нас носит в себе целую картинную галерею. Большие и важные части своей жизни я представляю в виде законченных картин.
Почему холмы Казахстана видятся мне блекло-желтыми, как цвет старого меда? Ведь ранней весною эти круглые горы вдруг наливаются ярким сиянием зелени - нет ничего на свете зеленее. Огромные алые облака диких тюльпанов вдруг в одночасье словно опускаются с небес на землю. И тогда безлесые склоны холмов становятся нарядными, как расписные шелка.
Над пыльно-желтой степью парят в размытом небе неторопливые орлы. И то огромное пространство, которое вмещает в себя и круговые полеты орлов, и предгорную равнину, и желтые холмы Казахстана - навсегда вошло в мою душу.
Каждый народ живет там, где Бог определил ему жить. Но отдельные человеко-частички отрываются, словно искры от пламени костра, - и могут улететь очень далеко... Я родился в Казахстане, стране бескрайних степей, выгоревших под солнцем, и неспешных орлиных спиралей над горами. Душу человека формируют ландшафты той страны, которую впервые увидел он в самом раннем детстве.
В дальнейшем она не может измениться. Душа может только расшириться и пополниться другими картинами мира. Я навсегда останусь огнепоклонником солнца, яростно пылающего над раскаленной бескрайней степью. Мне всегда будет душно и тесно в каменных ущельях городов, какими бы просторными и громадными они ни были. И жаркий пот на лице окажется для меня милее, чем прохладная сухость кожи в искусственном воздухе комнат, оборудованных кондиционерами.
И еще одно: никогда не перестанет шуметь и мельтешить в моей душе многоязыкий пестрый базар народов. Я стану человеком множественного полиментального склада характера. Мой естественный космополитизм во всех случаях идет от моих самых ранних впечатлений...
Казахстан времен моего детства был местом ссылки, беженства и военной эвакуации многих народностей империи. Огромные просторы Казахии советская имперская власть предопределила как тюрьму для разных народов. В этой тюрьме находились ссыльные нации: немцы, чеченцы, крымские татары, корейцы и другие. По воле Сталина эти народы были сорваны со своих родных мест и брошены на малообжитые, бедные земли, словно за тюремные стены, откуда нет свободного выхода.
Корейцы были первыми, кого заключили в казахский "лагерь народов". И я родился уже несвободным - мои родители были ссыльными, и в паспортах у них были особые пометки. За пределы Казахстана выезжать им запрещалось. Это положение сохранялось больше десяти лет.
Во время войны с Германией Казахстан был убежищем для бесчисленных беженцев, уходивших от нашествия немцев, - и местом ссылки двух миллионов "русских немцев" с Поволжья, где они жили на протяжении нескольких веков. Мне было лет пять-шесть, и моими друзьями тогда были Роман и Эльза, рыжеволосые немецкие дети. Их мать Клара, миловидная полная женщина, была уборщицей в школе, где отец работал после переезда из Сергиевки.
Чеченцы были страшноватыми людьми. Особенно страшными в них казались их огромные бараньи шапки с длинным мехом, свисавшим прядями на глаза, крючковатые носы и всегда почему-то рваная одежда, туго перехваченная на поясе узким ремнем.
У корейцев с чеченцами были довольно напряженные отношения. Я помню, была корейская свадьба, - и вдруг народ зашумел и повалил на улицу. А там уже кипело настоящее сражение между чеченцами и корейцами. Причем дрались не только мужчины: чеченцы при подобных схватках вступали в бой всем скопом, от мала и до велика, молодые женщины и старухи, детвора и подростки. Вооружались они чем только могли: дубинами, железными кочережками, мотыгами. Бабы чеченские поднимали пронзительный вой и были не менее страшны, чем их мужья в лохматых шапках.
В другой раз, я помню, в полях толпа корейцев гналась за одиноким чеченцем. Он был в большой лохматой шапке, хотя стояла жара. Оказалось, что этот человек был вором: он угнал у корейского хозяина корову и зарезал ее... Его догнали посреди поля - и на моих глазах толпа стала побивать его кольями... Время было жестокое и беспощадное - настал послевоенный голод.
Чеченцев привезли с Кавказа " где-то к осени," и они дружно принялись строить дома из глиняных кирпичей- саманов. Но к зиме дома у них не были готовы: стояли без окон, без дверей. У переселенцев начался, видимо, голод. Чеченские женщины сидели на снегу вдоль дороги, с протянутой рукой, низко надвинув на лицо платки.
Но через год-два чеченцы прижились на новом месте, как и корейцы, и немцы, и другие ссыльные народности. Они стали нашими соседями в городке Уш-Тобе, где мы оказались после нового переселения, и у меня были даже друзья среди них: Ибрагим, Шамиль... На городском рынке появились наспех сколоченные чеченские лавочки и ларьки. Их хозяева в лохматых шапках уже не были одеты в рванье, на поясах у некоторых появились богато украшенные кинжалы в ножнах.
Казахстан моего детства, солнечный и жаркий, с шумными многоязыкими базарами, взрастил в моей душе то человеческое начало, которое развивалось потом в течение всей жизни и стало причиной и оправданием моей судьбы.
Я очень рано начал осознавать, что корейцы, к которым принадлежу и я, не являлись хозяевами жизни там, где мы жили. Мое детское сердце постоянно тревожилось за родителей, в особенности за отца, у которого бывал такой неуверенный, виноватый вид, когда у него случались какие-то неурядицы или осложнения по службе.
Я побаивался чеченцев, дружил с бедными немецкими детьми и завидовал своему единственному другу-казаху, малышу Масабаю, у которого была своя верховая лошадь. У меня ее не было и никогда не могло быть.
В этом моем детском чувстве невозможности сказывалась горечь моего деда-крестьянина, у которого так и не было своей земли. Пожалуй, и моя душа предчувствовала, совсем недавно появившись на свете, что у меня "своей земли" тоже никогда не будет. Надо было устремиться к чему-то, что должно было быть свободным от эмигрантского комплекса национальной ущемленности. Надо было освободиться и от чувства вины, с которым ушел из жизни мой дед Ким Ги-Ен, - и обратиться к такой жизни, которая дала бы мне чувство уверенности и правоты.